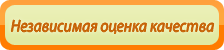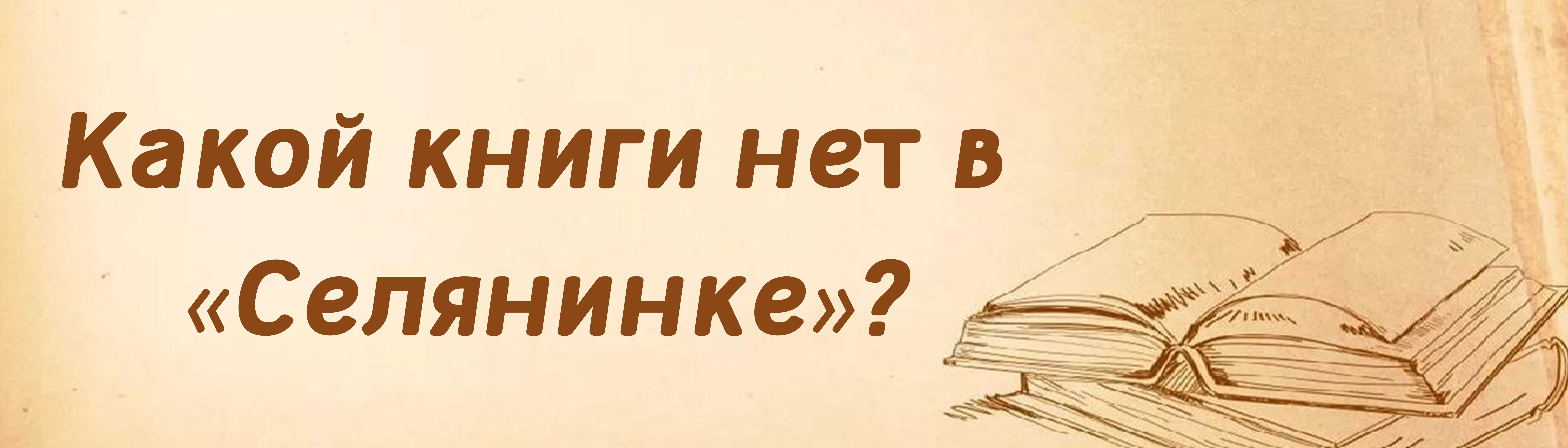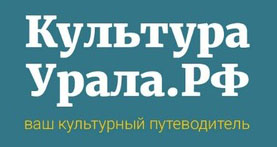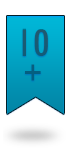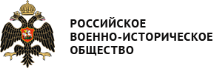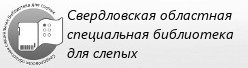Хроника рождения города
Воспоминания Будиной Надежды Степановны


21 июля 2017 года Надежда Степановна была гостем Качканарской городской библиотеки, вот, что мы от нее услышали:
«…Родом я из посёлка Черноисточинск, что под Нижним Тагилом. Старинный красивый посёлок.
А в конце 50-х по посёлку слух прошёл, что где-то на севере город новый строят. Потом приехал человек, мы его вербовщиком звали. Агитировал ехать на комсомольскую молодёжную стройку. Желающих много было. Погрузили нас на машины, и мы поехали. 11 машин набралось. Ехали с плакатами да с песнями. Привезли на Качканар, поселили в общежитие. Сейчас это дом номер 17 на улице Первомайской.

В общежитии.
Лето 1960 года.

Три подруги
Лето 1960 года.
Слева направо –
Рогушева Ольга,
Кузнецова Зоя,
Будина Надежда
Как приехали сразу на стройку. Копали ямы для столбов, столбы ставили. Днем стройка, а вечером учились на штукатуров-маляров.
В общежитии в одной комнате по 11-ть, а то и больше человек жили. С соседкой Зоей Кузнецовой спали на одной койке. Дружно тогда жили, всё делили пополам. Кушать варили по очереди на всю комнату, плитка-то одна на всё общежитие была. Кто свободен – тот и кашеварит. Да и столовая рядом была, обедали там. Так почти 3 года в общежитии и прожила. А в свободное время главные развлечения, кино, танцы!
Танцы-то сразу были, под открытым небом танцевали. В нынешнем парке «Строитель» была сколочена дощатая танцплощадка. Туда мы и бегали после работы. Сигналом к началу танцев был звук играющей гармони. Фильмы смотрели прямо под открытым небом, а когда дожди начались, кино переместилось в палатку.
А вспомнить «лежнёвку»? Это была главная рабочая дорога, проспект, как в шутку мы его называли. Когда шли дожди, тропинки ведь подмывало очень сильно, порой до работы было не добраться. Вот и придумали колотить из досок дорожки для пешеходов, так называемую лежнёвку. Ведь и песню про неё сложили.
Или так называемая Гора любви. Откуда это название пошло - так там свидания назначали. Там место такое хорошее: горушка, кругом березы. Даже после дождя там можно было гулять – не завязнешь в грязи. Танцплощадка рядом была, натанцуемся и идём гулять на Гору любви.
Потом приехали молодые ребята, солдаты из Москвы. Так и познакомились с будущим мужем, поженились. Мы оба в строительном управлении (СУ) №5 работали. Не успели заявление в ЗАГС даже подать, а меня вызывают в постройком. Говорят, замуж, Надежда, собралась? А чего квартиру не просишь? Молодожёнам тогда квартиры сразу давали.

Качканарская
лежнёвка

Бригада штукатуров-маляров
на строительстве больничного городка.
20 апреля 1962 года.
Вторая слева в первом ряду – Будина Надежда..
Поженились, первый ребенок у нас появился. А в декрете только 3 месяца сидели, ещё месяц отпуска и надо уже было на работу выходить. Во время рабочей смены на кормление давали один час, и на обед час. Дочку у бабушки-соседки приходилось оставлять, по рублю в день ей платила. Потом дали место в детских яслях.
Муж был заядлым рыбаком. Сам лодку сварил, он ведь сварщиком был. Часто на природу ездили. Много фотографировали, он с фотоаппаратом на Качканар приехал. Это тогда такая роскошь была! Только мало пожить нам пришлось, муж погиб на работе. Работал сварщиком на ТЭЦ, а там котел взорвался. Три человека пострадало и он в том числе. Сильно обгорели. И с тех пор я одна всю жизнь. Младшей дочери всего 2 года было. Одна я двоих детей растила.
Много домов в Качканаре моими руками построено. Первая двенадцатиэтажка. Знаю, что эти дома не сразу разрешили строить в Качканаре, строили тогда типовые дома в основном. Но главный архитектор города отстоял этот проект аж в Москве, хотя он был гораздо дороже. А как эти дома хорошо вписались! Там ведь и квартиры отличительные, в комнатах по пять углов. Я горжусь тем, что строила эти дома!
Строили корпус крупного дробления комбината (горно-обогатительного) строили. Моя бригада штукатурами-высотниками работала. Обвязывали нас верёвками для страховки, на пояс ведро с краской на «собачку» подцепляли, и мы как те же собачки по стене лазили. По молодости ведь ничего не страшно. Производственные здания строили, потом на жилые дома перешли. Вечером учились, днем работали, всё успевали. Хоть и голодное было время тогда, но дружное. Тогда, в 60-е гораздо тяжелее было: недоедали, работали тяжело, приспособлений, механизмов для облегчения нашего труда не было, грязь кругом, машина не везде пройдёт. Но нет, мы не унывали. Верили, что город-сад строим!»
У Надежды Степановны большая часть жизни прожита в Качканаре, и закончила она свою беседу словами, как бы обращением молодым его жителям: «Красивый мы вам город построили. Зелёный, яркий! Живите, молодёжь, и берегите его!»
Воспоминания Тамары Михайловны Григорьевой

Тамара Михайловна Григорьева – первостроитель нашего города. Невысокая, хрупкая, худенькая, симпатичная женщина. Очень застенчивая, увлеченная и жизнелюбивая. Ее воспоминания добавят новые штрихи в историю города.
«Родилась я в Серове, но с трёх лет до шестнадцати воспитывалась в детском доме в Нижней Туре. Память сохранила детские воспоминания о детдоме – кормили хорошо, жили привольно, бегали в лес по ягоды , грибы, цветы, купались в реке Туре, дружили, играли в разные игры, никто не обижал. В Нижней Туре окончила семь классов и с 16 лет работала на механическом заводе.
В 1957 году завод ликвидировали и нас четыре человека перевели в женскую бригаду разнорабочих в Качканар, бригадиром была Катя Юхляевских. О стройке Качканара в то время много говорили, писали в газетах и мы, конечно, радовались, что получили направление туда. Погода в октябре была уже осенняя, холодно, дожди и грязь. Поселили нас в общежитие, в комнате было 5 или 6 человек, тоже было холодно, зимой углы промерзали и дуло из всех щелей.

Работала я разнорабочей 3 разряда, копали и копали в котлованах, ямах, вообще куда пошлют. Обедали в столовой, сначала под открытым небом. Было тяжело, но мы были молоды, веселы и, наверное, оптимисты. В нашем первом строительном управлении все были молодые и парни и девчата, бывало, пели песни, очень люблю петь, гуляли по новеньким тротуарам, но больше готовились к завтрашнему рабочему дню – сушили одежду, стирали, искали, где бы помыться и просто отдыхали.
Когда работала на стройке. стала присматриваться к работе каменщиков и однажды попросила бригадира: «Можно, я попробую кладку?» «Ну, давай», похвалил, сказал, что хорошо. А тут ещё и новый закон подоспел и с июня 1960 года, как записано в трудовой книжке « В связи с переходом на 7-часовой рабочий день и новой оплатой труда присвоена специальность подсобник каменщика 2 разряда. Через несколько лет дали 2 разряд каменщика, а потом и 3-ий. Работа каменщика очень ответственна и трудна. Бригадиром у нас был Титов. Работали и на наружных работах и внутри зданий, летом еще нормально, а зимой холодно и ветрено. Сколько тонн кирпичей и раствора пришлось уложить, не считала. Вот и нынче иду по городу, вспоминаю, этот дом я строила, и этот, и этот и даже в котором сейчас живу, дом № 15 тоже строила, и школу на 10 микрорайоне, и Белый дом…

Я была комсомолкой, участвовала в социалистическом соревновании и даже была награждена знаком «Отличник соц. соревнования РСФСР», сейчас вот вспоминаю, вручали грамоты, подарки, благодарности, всего не упомнишь. А в 1975 году была награждена Орденом трудовой славы 3 степени. Нас тогда 7 человек наградили, ездили в Свердловск, там и вручили этот Орден. Вот так и работала все эти годы в стройуправлении.

Помню комсомольские собрания в клубе и в управлении, комсомольский секретарь Илья Машкин, когда открыли клуб «Строитель», ходили туда на концерты, вечера отдыха, танцы. Очень люблю танцевать и петь, даже уже на пенсии ходила в кружок танцев к Тамаре Александровне Мартыновой. А пели мы часто, и когда на субботниках работали – они частенько бывали, в колхоз на помощь ездили, да просто в комнате соберемся и все знакомые песни перепоём. Да тогда всё было в радость, всё впервые – первый гудок паровоза – ликовали, первая школа – наши будущие дети будут в ней учиться, садик, ясли, да даже первые магазины помню. А жильё, сколько радости, когда заселялись новосёлы, а свадьбы подруг, встречи на танцплощадке. Вот сейчас пересматриваю старые фотографии, читаю на обороте, где это и когда, и будто снова строю город, живу и молодею. Вот на фотографии мои подруги, девчата из бригады № 17 Титова Л, Шулепова Валя, Шеломенцева Люся, Ожигова Аля, Безматерных Луиза, ну и я Григорьева Тома.
Всю жизнь прожила в Качканаре, а он с каждым годом хорошеет, всё такой же зелёный и родной. Прекрасный стадион, Дворец культуры, для детей школа искусств, музыкальная, художественная, Дворец спорта, бассейн, благоустроенные квартиры… Нам первостроителям о многом и не мечталось, а сейчас только жить и жить, было бы здоровье. »
Записала Вертилецкая Т.В.









Воспоминания о Федоре Тимофеевиче Селянине

Вспоминая историю Качканара нельзя не упомянуть имя, которое известно всем первостроителям, имя, которое с гордостью носит Качканарская городская библиотека. - Федор Тимофеевич Селянин.
Удивительна судьба этого человека. Качканар стал для Селянина родным, хоть и родился он в городе Ирбите Свердловской области. Трудовую деятельность начал в далёком 1947 году рабочим маркшейдерского бюро Ново-Ленинской шахты Красноуральского рудоуправления. Прошел путь от рабочего до секретаря горкома партии. Качканар стал яркой звёздочкой на жизненном небосклоне Селянина. Когда только начинался Качканар, и первостроители спали в палатках, примерзая одеялами к земле, Селянин, тогда секретарь Нижнетуринского городского комитета комсомола, был рядом с первыми лесорубами и плотниками.
Он не уставал рассказывать о Качканаре - в школах, в суворовском училище, на пленумах и конференциях. О красноречии Селянина ходили легенды. Был однажды такой фантастический случай. Час ночи. В маленьком рудничном клубе сидит кучка сонных ребят-новичков, приехавших на Качканар. Усталые, злые, неустроенные. Их не ждали в тот день. Где разместить – никто не подумал. И сейчас предстояло им коротать ночь в неубранном, неуютном зале. Вновь прибывшие, бурчали: «Заманиваете, обещаете! А у самих и ночевать негде» И вдруг на пороге появляется Фёдор Селянин. В кепочке, плаще, парень, как все, ничем не приметный, пристраивается к подоконнику и, будто не слыша недовольных голосов, начинает говорить:
— А что, ребята, может, лет через двадцать вы оглянетесь на свою жизнь, отыскивая минуту и час, когда вы сделали первый сознательный шаг в мир будущего, и вспомните именно этот час. Ночь. Старый клуб. Неуют. Ни оркестра, ни цветов. Ничего такого, что бы подбодрило вас. Только ваше собственное сердце и разум, которые говорят: «Нет, все правильно. Ведь не ради славы, не ради чьих-то похвал ехали мы в медвежий этот угол. Ехали затем, чтоб стал он моложе и светлей, чтобы снять с него медвежье звание...» Федя рассказывал, и смотрел в глаза ребятам, и видел как меняются они: скептические, насмешливые, доверчивые, они теплеют, сосредоточиваются на какой-то видно, новой для них мысли.
Добродушный, открытый, душевный, а если требовалось, жесткий и принципиальный — таким его знали. На комсомольской, партийной, профсоюзной работе — всюду Федор Тимофеевич был на своем месте. Обладая глубокой эрудицией, он всегда был тактичен и даже мягок. Этим и нравился людям. Селянин «заворачивал» делами огромной важности, общался с тысячными аудиториями и помнил о нуждах отдельных людей. Для одного «выбил» он благоустроенную квартиру, другому — путевку в санаторий, третьего предостерег от неправильных действий. Люди верили, что Селянин все может, Селянин не оставит в беде. Он старался не обмануть этих надежд. Селянина не просто уважали. Он был не просто талантлив. Его любили! За проникновение в чужую жизнь, за простоту, за чистоту сердца, за то, что был он весь открыт, во всей своей жизни и мыслях, ясен и горяч, свой среди своих.
В календаре жизни, в памяти людей минувшее остаётся – воспоминаниями, делами, городами, заводами, и, конечно же, своими стихами. Селянин это прекрасно понимал и обо всём этом писал:
Никто-никто не упрекнёт меня,
Что в жизни я опасностей боялся.
И, повзрослевший, выйдя из огня,
Я, как ребёнок, искренним остался.
О жизнь! Поток твой яростный носил,
Бросал меня и в сердце бил с налёту.
И если скажут в будущем: «Он жил!»
То, значит, я боролся и работал.